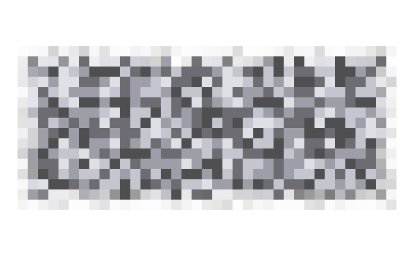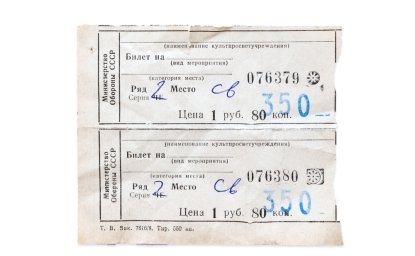Страна реконструкторов
Сергей Ерженков — о том, почему Россия повернута лицом к своему прошлому и задом — к будущему

A blog of the Kennan Institute
Сергей Ерженков — о том, почему Россия повернута лицом к своему прошлому и задом — к будущему

Россия — страна, где прошлое важнее будущего. Страна исторических реконструкций, бесконечных самоповторов и переписанных учебников. С одержимостью геймера, который перед каждым раундом игры сохраняется, чтобы не начинать с самого начала, Россия раз за разом переигрывает события своего прошлого — в ущерб настоящему и будущему, но в слепой надежде, что на этот раз издержки будут минимизированы, в финале все уцелеют и нас ждет заслуженный триумф. Бесконечное воспроизведение одних и тех же паттернов создает иллюзию стабильности и как будто возвращает чувство контроля: если повторить знакомые действия бесчисленное множество раз, набить руку, можно избежать фатальных ошибок.
В меняющемся мире, где будущее кажется таким неопределенным и пугающим, проще найти опору в прошлом и все текущие события осмыслять через прямые отсылки к нему. Будущее всегда страшит, потому что это неизвестность, риск и ответственность за выбор, который до тебя никто никогда не делал, тогда как прошлое уютно и предсказуемо. Всё, что могло случиться, уже случилось: победы одержаны, враги повержены, предатели наказаны, герои канонизированы. А спорные моменты, если таковые имеются, всегда можно вымарать и переписать набело в соответствии с обновленной концепцией. Поэтому отечественную историю вряд ли издадут в окончательной редакции, это всегда будет черновик — неряшливый, растрепанный, с вырванными страницами, весь в помарках и кляксах.
Прошлое — идеальная жертва и заложник режима. Оно терпеливо, покорно, молчит, не спорит и готово безропотно сносить любые издевательства Мединского.
Если в девяностых историческая реконструкция была нишевым увлечением немолодых, часто страдающих от невостребованности мужчин, что реализовывали себя через подражание и мимикрию, то в нулевых это превратилось чуть ли не в национальную идею и было подхвачено на самом высоком уровне. Трудно сказать, когда это произошло и с чьей подачи — не то Шевкунова, не то Мединского, а не то какого-нибудь Старикова, — но в какой-то момент, приблизительно в пандемийный период, оторванный от реальности Владимир Путин обнаружил в себе страстный интерес к истории. В тишине кремлевских залов внезапно ожили тени прошлого. История стала не просто отдушиной для скучающего автократа, потерявшего всякий интерес к повседневным государственным заботам, но и сценой, где он мог быть одновременно и зрителем, и участником. Его диалоги с призраками Ивана Грозного, Петра и Екатерины погрузили страну в один длинный нескончаемый февраль, и, кажется, не будь этого нездорового интереса к истории и попыток ее интерпретировать сообразно своим взглядам, вполне возможно, войны бы удалось избежать.
Все началось даже не в пандемию, а десять лет назад, когда участник историко-реконструкторского движения Игорь Гиркин-Стрелков, по собственному признанию, «нажал спусковой крючок войны». До 2014 года монархист Стрелков сидел на тематических форумах и разыгрывал военные сцены, в которых принимал участие отряд под командованием генерала Белой армии Михаила Дроздовского. А уже в 2014-м весь этот иммерсивный театр сменил холостые патроны на боевые и захватил Славянск. Говорят, когда Стрелков вел свой отряд из Крыма, он вдохновлялся марш-броском своего кумира, генерала Дроздовского, который провел свой отряд из Румынии через пылающую Украину на Дон.
На волне интереса к истории, причем в ее альтернативном изводе, кажется вполне логичным, что одним из самых популярных жанров последнего времени стала «попаданческая литература», в которой протагонист попадает в прошлое, чтобы исправить «кривизну русской истории» (выражение патриарха Кирилла). Засланец в прошлое спасает Россию от революции, предостерегает Сталина от ошибок первых дней войны и разбивает наголову войско Батыя. Главные темы попаданческой литературы — революция и Великая Отечественная война. На языке психологов — наши непроработанные детские травмы. В этом обращении к прошлому, в стремлении не просто оказаться в учебнике истории, но и иметь возможность его переписать есть и ресентимент, и почти детская вера в сказки. В 2022-м, в год начала войны, экономист Николай Кульбака проанализировал весь корпус «попаданческой литературы» на русском и перевел это в понятные графики — как по экспоненте росла популярность жанра. Первые книги «попаданцев» появились только в 2004 году, но уже к началу войны этот жанр стал одним из самых востребованных, что видно по полкам книжных магазинов. Интересно, что на западе этот жанр используется исключительно в развлекательных целях (впервые прием использовал Марк Твен, поиздевавшись над жанром средневекового рыцарского романа в «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»). У нас же это не столько художественное высказывание, сколько историческая ревизия, попытка заново переписать отечественную историю и понять, что бы случилось с родиной и с нами, пойди мы другим путем.
Психоаналитик, если бы разбирал эту зацикленность и фиксацию пациента на истории, назвал бы это компульсивным, то есть навязчивым повторением травмы. Пациент находится в плену у травматического опыта и, желая его переиграть заново, неосознанно повторяет, что всегда приводит к ретравматизации.
В этой связи можно еще вспомнить феномен незавершенного действия, известный как эффект Зейгарник. Прерванные задачи и действия запоминаются лучше, чем завершенные. Возможно, это один из ответов на вопрос, почему Россия повернута лицом к своему прошлому и задом — к будущему. Вся наша история — одно незавершенное действие, открытый гештальт, который мы, сколько бы ни старались, никак не можем закрыть. Революции, войны, ошибки девяностых — все это отпечаталось в коллективной памяти и создало мотивационное напряжение, которое, как писала Зейгарник, требует разрядки, а если этого не происходит, событие застревает в памяти занозой и не дает двигаться вперед. Человеческая психика так устроена, что стремится завершить начатое, чтобы восстановить внутреннее равновесие. Отсюда попытки реконструировать прошлое и подновить прогнившие до основания здания. Это как затянувшаяся реновация музея, где уже не осталось ни одного оригинального экспоната — одни копии и эрзацы, да и те из гипсокартона.
С недавних пор прошлое заполняет собою всю российскую реальность, оно разлито в настоящем, как токсичная ртуть в замкнутом помещении, что оказывает парализующее воздействие на человека. Все — от президента и до последнего мужика за гаражами, — как токсикоманы, дышат этими ядовитыми парами и отравляют ими следующие поколения.
В области культуры — ничего живого и настоящего, только холодный свет софитов и Россия как огромный павильон Останкино, где снимают ремейки и записывают старые песни о главном. В этих декорациях прошлое становится не источником вдохновения или ностальгии, оно становится убежищем от настоящего. В прошлом году Министерство просвещения предложило Союзу кинематографистов подумать над созданием ремейков советской классики. В письме содержался длинный перечень фильмов, которые неплохо бы переснять с использованием современной техники, чтобы заинтересовать молодежь. В списке почти весь Эйзенштейн, «Летят журавли» Калатозова, «Завтра была война», «Как закалялась сталь» — в общей сложности 30 советских фильмов, и все о войне.
Выставки трофейной техники, юнармия, кадетские классы ФСБ и военно-полевые кухни с перловой кашей (видимо, чтобы, отведав ее, каждый школьник прочувствовал все тяготы и лишения военного времени) — все это стало узнаваемыми приметами времени. С подачи Минпросвещения история стала главным предметом в российских школах. С 1 сентября 2025 года, согласно приказу, общее количество часов, отведенных на изучение истории, увеличится с 340 до 476. Если еще прибавить «Разговоры о важном», то, получается, власть воспитывает поколение историков. А точнее — поколение охранников-чоповцев у дверей хранилища исторического величия, потому что история, как она преподается в российской школе, — это не пространство вопросов, сомнений и вольных интерпретаций, это символ веры, который заучивается наизусть. Российской власти не нужны те, кто будет задавать лишние вопросы и критически осмыслять прошлое, им нужны выдрессированные чоповцы, которые будут сторожить исторические мифы от посягательств врагов, внешних и внутренних, и ловить за руку фальсификаторов.
Симптоматично, что у многих охранников, представителей самой массовой и востребованной в России профессии, интерес к истории возник так же внезапно, как у президента, и совпал с началом войны. Еще недавно они работали охранниками в супермаркетах и на парковках, а сейчас, сменив синюю форму на военный камуфляж, стоят на идеологическом посту и размышляют о подоплеке и неизбежности войны.
***
Великий русский писатель Владимир Шаров раскрывает странную, почти мистическую одержимость России бесконечным повторением. В его романе «Репетиции» вся русская история становится грандиозной сценой, где уже несколько веков подряд разыгрывают одну и ту же пьесу — ремейк библейских событий — в надежде, что повторения приблизят исполнение эсхатологических пророчеств. Таков каприз патриарха Никона: он хочет поставить спектакль, который бы полностью повторял земную жизнь Христа, но на русской земле и в русских декорациях, для чего приглашает из Франции актера Сертана. Тот набирает труппу из крестьян и начинает репетировать с ними библейские мистерии. Со временем актеры настолько вживаются в свои роли апостолов и римских солдат, что теряют грань между игрой и реальной жизнью. Из приглашенного режиссера Сертан невольно становится духовным отцом русской секты, в основе учения которой — приближение второго пришествия. Чем реалистичнее актеры разыграют библейские мистерии, тем быстрее сбудутся пророчества Иоанна и наступит тысячелетнее царство.
Этот образ — репетиции, где нет премьеры, — чрезвычайно точная метафора новейшей российской истории. В одном из интервью Шаров говорил, что, рассматривая 400-летнюю русскую историю через призму Евангелия, он пытался заглянуть в «бездну повторяемости русской истории». Именно бездну, а не круговорот, каким его представляли другие культуры. Там, где эллины видели «пульсирующий огонь», где Ницше искал вдохновение в «вечном возвращении», а Восток осмыслял закон Сансары, русская традиция находит зияющую пустоту, рухнувшую под тяжестью декораций сцену, куда мы с завидным постоянством проваливаемся. Россия вновь и вновь репетирует свое «светлое будущее», используя декорации прошлого, но премьера так и не наступает. И, может быть, никогда не наступит.
Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.


The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region through research and exchange. Read more