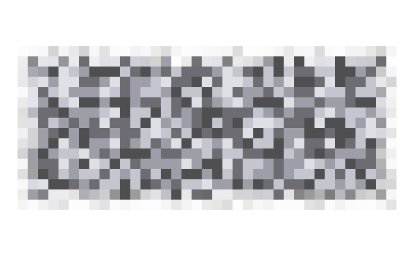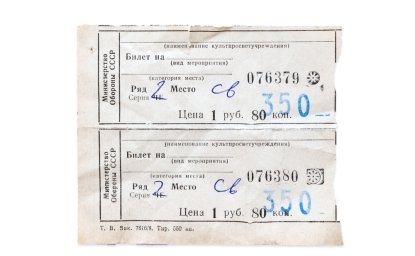Глазами дракона
Константин Шавловский — о документальном кино на фоне катастрофы

A blog of the Kennan Institute
Константин Шавловский — о документальном кино на фоне катастрофы

В конце 2022 года на BBC вышла главная документальная премьера года — семисерийный сериал Адама Кертиса «Россия 1985—1999: TraumaZone», портрет российского общества, «пережившего коллапс тоталитаризма и демократии», как сказано в подзаголовке. Кертис сработал феноменально быстро — начавшаяся полномасштабная российско-украинская война поставила множество вопросов перед миром о том, что вообще такое современная Россия. Несмотря на открытые границы (хотя получение российской визы все эти годы было утомительным аттракционом для иностранцев), выяснилось, что ни похорошевшая в 2010-х Москва, ни fancy-бары и музеи Петербурга, ни догоняющее развитие российских городов-миллионников не дают совершенно никакого представления о том, что происходило все эти годы в России на самом деле.
Адам Кертис, один из самых влиятельных режиссеров-документалистов в мире, взял архив советско-российского корпункта BBC и смонтировал семичасовую остросюжетную «хронику пикирующего бомбардировщика». У сериала несколько слоев. Первый, самый поверхностный и понятный, посвящен политической истории: Горбачев, Афганистан, ГКЧП, Ельцин, расстрел парламента, Чечня, манипуляции на выборах 1996-го, операция «преемник». Второй рассказывает об экономической истории: разложение плановой экономики, шоковая терапия рынка, появление олигархата из комсомольских лидеров, «семибанкирщина». Третий — внешнеполитический: хотя основное действие сериала происходит на территории РСФСР и Российской Федерации, Кертис то и дело путешествует за границу, рассказывая про образование национальных государств на территориях союзных республик и начавшиеся по периметру распавшегося СССР войны. Отдельным, четвертым пунктом можно выделить визиты в СССР и Россию западных лидеров, апофеозом тут становится посещение королевой Елизаветой II премьеры в Большом театре, смонтированное с танками, идущими на Грозный. В этой линии, важной для режиссера, Кертис недвусмысленно говорит об ответственности американских и европейских лидеров за поддержку и расстрела парламента в 1993-м, и Ельцина в 1996-м, и выдвижения Путина в 1999-м (мы видим, как на смотрины будущего президента России в Москву приезжает Тони Блэр). Наконец, пятый слой — это частные истории, которые прошивают весь этот исторический метанарратив. Русская babushka едет к своей подруге в деревню за картофелем, девушка становится менеджером по продаже американской косметики Mary Kay, мать отговаривает солдата от службы в армии во время войны в Чечне. Самая живая из историй — про чумазую девочку феноменального обаяния, которая ходит на Твербуле от машины к машине, прося денег на еду. Причем камера снимает ее несколько лет, и в какой-то момент она, уже повзрослев, все с той же обаятельной непосредственностью говорит оператору, что вообще-то хочет получать деньги за съемку, потому что он-то работает не бесплатно. Умная девочка.
Про сериал Кертиса в год его выхода написали лучшие перья России. Проницательный Юрий Сапрыкин в статье на «Кинопоиске» отметил, что важно не столько то, что и как показано на экране, сколько то, что там не показано. В «стране TraumaZone» не веселятся, не читают книги, не смотрят кино и не слушают музыку. А все частные истории, к которым обращается режиссер, заботливо уложены в прокрустово ложе исторических нарративов: судьба человека становится иллюстрацией к режиссерскому концепту.
Нам показывают, как издыхает один дракон и как ему на смену приходит новый, молодой и полный сил. «TraumaZone» — это история постсоветского общества и пространства глазами дракона, поэтому люди в ней — статисты, массовка, фон. И очень велик соблазн принять историю дракона за историю общества. Сапрыкин пишет, что после просмотра «TraumaZone» довольно сложно говорить о перестройке и девяностых как о «времени свободы»: слова застрянут в горле, настолько, видимо, убедителен монтаж Кертиса.
Но фокус в том, что в «TraumaZone» мы имеем дело с двойным искажением. О том, что взгляд Кертиса ангажирован его политической концепцией, заявленной в названии сериала, говорить, наверное, излишне. Из множества часов материала он, безусловно, выбирает именно ту хронику, которая иллюстрирует его мысль о том, что все, что происходит на одной шестой части суши и вокруг нее, обусловлено коллективной травмой от краха СССР и неоправдавшимися надеждами на демократические реформы, которые оказались ширмой для передела власти внутри элит. Концепция ясная, четкая, только не очень понятно, зачем ее так подробно рассказывать в течение целых семи часов, используя действительно уникальный хроникальный материал, снятый безымянными операторами BBC (иногда буквально под пулями), в качестве декоративно-прикладного обвеса.
Но меня намного больше волнует не монтаж Кертиса, а искажение первого порядка, которое представляет собой, собственно, сам архив. Одним из оснований деколониальной оптики, модной нынче у либеральной интеллигенции, является утверждение о том, что любой архив не бесстрастен. Архив — это всегда фильтр, и армия операторов BBC, фиксирующих «коллапс тоталитаризма и демократии» на советском и постсоветском пространстве, является важнейшим звеном этого первоначального отбора.
Все, кто писал о сериале Кертиса, поражались тому, что, даже если мы видим на экране известные исторические события, мы смотрим на них всегда с какого-то другого, неизвестного ракурса. Многие кадры действительно совершенно уникальные и ранее не публиковавшиеся, но, кроме факта эксклюзивности, нас цепляет еще и взгляд чужого, иностранца, человека, не причастного к тому опыту, который он фиксирует. Это отсутствие опыта жизни в советском и постсоветском обществе зияет прежде всего в самом архиве. И, конечно, оно умножается на тот факт, что операторы снимали свой материал, очевидно, по редакционному заданию, которое было обусловлено политическим моментом.
В девяностых люди веселились, пели песни, напивались, болели, рожали и воспитывали детей, теряли работу, находили друзей и, конечно, любили. Еще часто бывает так: чем безнадежней время, тем отчаянней любовь и чем меньше внешних возможностей, тем сильнее человек задействует внутренние. И вот этой любви в сериале «TraumaZone», главным образом, и нет. Режиссер смотрит на предмет своего описания с жалостью, испытывая одновременно чувство вины и брезгливости, какую испытывает белый человек, рассматривающий плохо одетых аборигенов, раздавленных шестеренками большой истории. И в итоге, конечно же, травма выходит на первый план, вытесняя все остальное. И тут поразительным образом взгляд Кертиса совпадает с официальным дискурсом современной российской пропаганды, создавшей мифологию «лихих 90-х», отстраиваясь от которой, Россия встает с колен. Так отражается друг в друге любая пропаганда, образуя систему зеркал: комнату, в которой нет человека.
Фактически мы имеем дело с банализацией исторического нарратива, когда сложная мозаика жизни складывается в очень простую формулу. Но самое интересное, что такое превращение жизни постфактум в коллективную травму, похожее на прочерк между датами на могильной плите, происходит не только на экране. Диагностика, сведенная до нескольких абзацев учебника истории, едва ли может способствовать «проработке» этой самой травмы. Этот взгляд стигматизирует вообще все, на что падает. Диагноз «травма» пришивается белыми нитками к лоскутному одеялу памяти, и вот уже общество заворачивается в ресентимент, а его внутренняя, богатая и сложная речь, которую никто не хочет услышать, сводится к монологам таксистов.
Вот, наверное, самые показательные моменты в сериале Кертиса: операторы BBC спрашивают у деревенских бабушек про реформы, а девушке из ремонтной бригады задают вопрос, о чем она мечтает; она отвечает, что ни о чем не мечтает и ни во что не верит. Действительно ли это так или, возможно, авторам этих материалов и не нужны были ответы на эти вопросы? И поэтому они и не пытались найти общий язык с героями, подобрать ключ к конкретным людям, с которыми взаимодействовали?
Когда-то давно одна моя знакомая девушка, выросшая на окраине Петербурга, рассказывала мне о своей семье, в которой домашнее насилие было нормой. Она, кстати, говорила не изнутри травмы, а просто описывала события и потом сказала: «Знаешь, мы деремся, когда у нас не хватает слов». При переводе постсоветской истории, даже той ее ангажированной части, которая попала в архивы (в любые архивы — архив BBC просто обнажает эти лакуны наиболее откровенно), на язык политической истории сложные смыслы неизбежно теряются. Получается, что в сериале Кертиса не хватает не только значительных фрагментов текста, которые не попали в архив, но и слов для перевода того, что сохранилось.
Масштабный и впечатляющий проект Адама Кертиса заставил меня задуматься, что же останется от России «эпохи СВО»? Выстроенные буквой Z дети в детском саду? Победные реляции пропагандистов? Исторические лекции Путина? Мятеж Пригожина? Митинги жен мобилизованных? Блокировка и преследование независимых медиа? Да, это все происходит здесь и сейчас, с нами, и мы уже третий год пишем о возвращении большой истории (которая вообще-то никуда и не уходила, это нам было удобно от нее отвернуться, не замечая происходящих вокруг войн).
Размышляя об этом, я посмотрел фильм молодого режиссера-документалиста Виталия Акимова «Последнее лето», премьера которого состоялась в конкурсе «Артдокфеста». Фильм снят в 2022 году, его главный герой Коля — обитатель Милютинского сквота, тусовки неформальной молодежи в центре Москвы, беспорядочно употребляющей легкие наркотики и алкоголь, устраивающей подпольные концерты и даже любительские кулачные бои во дворах. В черно-белом фильме Акимова очень много жизни и любви, фильм невероятно снят и смонтирован, и война, на фоне которой происходит это бесконечное веселье, очень тихо, точно и аккуратно вплетена в повествование. Но из-за того, что этот очень близкий, интимный портрет хрупкой юности снят все же со стороны, никак не связан с автором, который остается молчаливым наблюдателем за кадром, на экране вся эта живая жизнь превращается в контрапункт к историческому событию. Мы видим молодых людей, головокружительной красоты кадры их радости и ярости, их очень на самом деле свободной жизни в несвободной стране, — но контекст съемок и метод не включенного наблюдения редуцируют эту жизнь до клише «напрасная юность».
По фантастическому стечению обстоятельств до того, как посмотреть «Последнее лето» Акимова, я посмотрел черновую сборку фильма «Осколки» Маши Черной, которая снимала тех же героев и героинь в то же самое время. Та же Милюта, тот же кулачный бой, которым открывается фильм. И поразителен, конечно, сам факт того, что два талантливых российских документалиста в год начала войны отправились с камерой в один и тот же сквот, чтобы снимать людей, максимально далеких по образу своей жизни от того, о чем говорят новости разрешенных и запрещенных СМИ. О чем это свидетельствует? О том, что пропагандистская картинка, публицистика и политическая документалистика, следуя за своими нарративами, исключают множество людей, которые живут своей настоящей жизнью.
В свое время революцию в славистике совершила книга Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось», в которой он рассказал миру о том, что в позднем СССР жили не только коммунисты и диссиденты и что в эту бинарную логику просто невозможно упаковать страну с миллионами людей, которые ее населяют. Юрчак ввел термин «пространство вненаходимости» (в нем на самом деле жили очень многие люди в позднем Советском Союзе).
Фильмы Акимова и Черной дополняют друг друга, документируя одно из возможных современных «пространств вненаходимости». Только если камера Акимова, несмотря на свою искреннюю влюбленность, фокусируется на контрасте этой жизни со свинцовой мерзостью времени, то в фильме Черной все несколько сложнее. Несмотря на то, что в «Осколках» запечатлено намного больше событий, так или иначе связанных с российско-украинской войной (она снимает и парад в Москве в мае 23-го, и пьяных сторонников СВО в метро, да и разговоры ее героев о войне звучат намного громче). Когда «Осколки» выйдут, эти две картины станут идеальной парой для разговора не только о мужском и женском взгляде в кино, но также о том, что такое взгляд со стороны и взгляд извне. Потому что Черная, в отличие от Акимова, вводит себя в качестве героини в свой фильм, она сама живет в этом сквоте и дышит этим воздухом карнавала. И ее герои поэтому не иллюстрируют концепцию «напрасной юности» (любая юность напрасна, если смотреть на нее с определенного ракурса). И если в замечательном фильме Виталия Акимова жизнь его героев так или иначе становится фоном для большой войны (которая на экране, как и в российском обществе, является огромной фигурой умолчания), то в фильме Маши Черной это соотношение меняется. Война здесь, наоборот, становится фоном для жизни, которая существует вопреки, пробивается и, несмотря ни на что, растет в разные стороны.
Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.


The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region through research and exchange. Read more