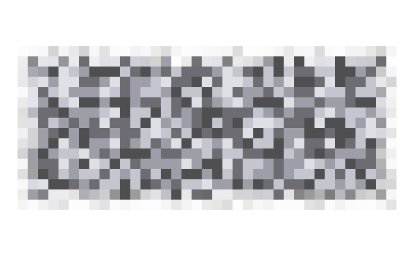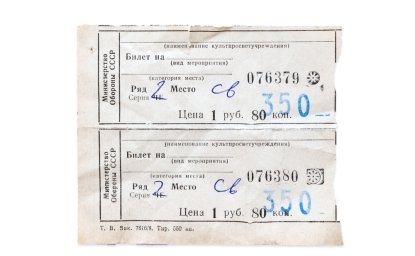Сказочный централ
Константин Шавловский — о том, как сильно россияне любят сказки

A blog of the Kennan Institute
Константин Шавловский — о том, как сильно россияне любят сказки
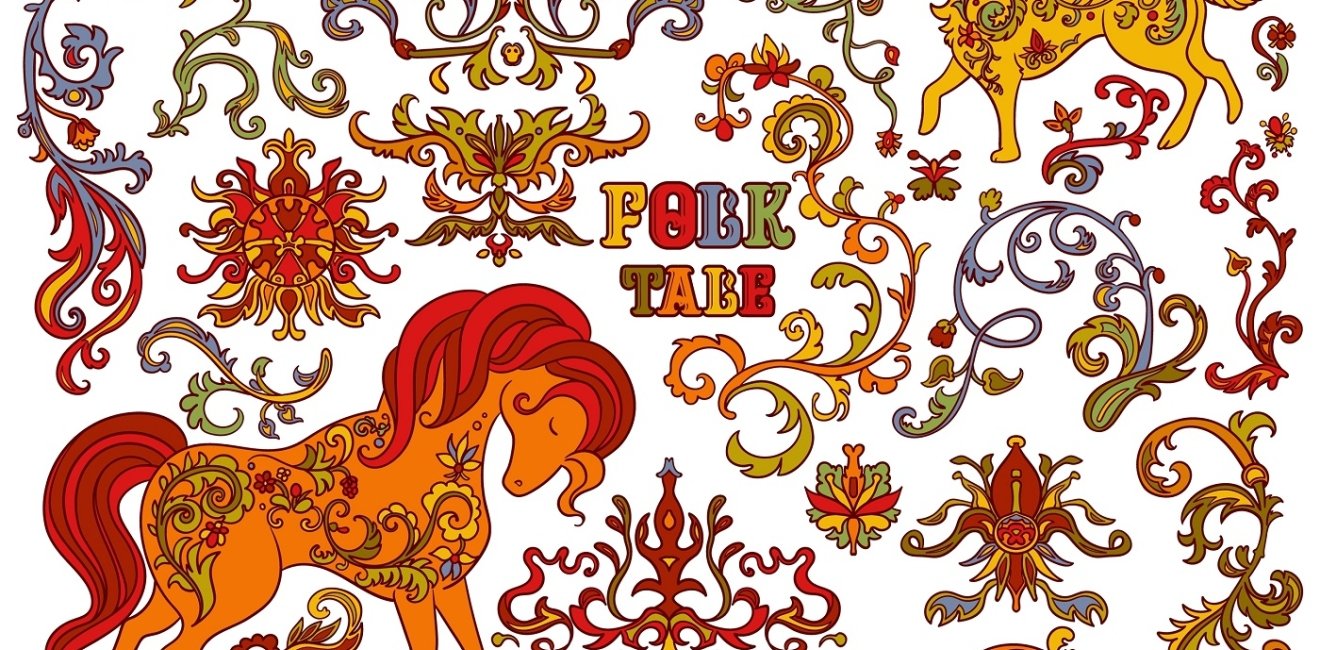
Одним из главных трендов в российском кинематографе 2020-х можно смело назвать настоящий триумф жанра фильма-сказки. И речь не о «Сказке» Александра Сокурова (хотя о ней в некотором роде, конечно, тоже). У этого жанра богатейшая советская традиция, в первую очередь связанная с именами великих советских сказочников Надежды Кошеверовой и Александра Роу. Оба, кстати, начинали снимать свои сказки в сталинские годы. «Золушка» Кошеверовой — это 1947-й, а Роу в 1938-м дебютировал фильмом «По щучьему велению», а в 1941-м снял «Конька-Горбунка».
Сказки, поставленные Роу, экранизированы и в новейшее время: «Конек-Горбунок» Олега Погодина вышел в 2021-м, «По щучьему велению» Александра Войтинского — в 2023-м, став одним из самых кассовых фильмов в истории российского проката (фильм собрал почти 2,5 млрд рублей). По этим двум сказкам, кстати, достаточно легко увидеть разделение мира, что называется, на до и после: в «Коньке» антагонистом главного героя Ивана, который в исполнении артиста Антона Шагина был чем-то неуловимо похож на недавно вернувшегося в Россию Алексея Навального, был жадный и коварный царь (Михаил Ефремов). А уже в «По щучьему велению» антагонисткой Ивана в исполнении Никиты Кологривого стала дочка царя, подпавшая под дурное западное влияние. Сам же царь в исполнении Романа Мадянова (это он в «Левиафане» Андрея Звягинцева сыграл мэра и вообще давно стал эталонным олицетворением мстительного чиновника-взяточника в российском кино) — народный, работящий, радеющий за все импортозамещенное, даже корона у него деревянная. Кстати, любопытно, что и Кощей в этой сказке неожиданно стал персонажем положительным. Видимо, потому что, в отличие от противного английского посла, он тоже свой, не заморский.
В ближайшее время российского зрителя ждут «Буратино» и «Волшебник Изумрудного города» Игоря Волошина, «Илья Муромец» Карена Оганесяна, «Огниво» Александра Войтинского, «Золотой петушок» Рената Давлетьярова, «Руслан и Людмила» Руслана Мосафира. Нам обещают даже создать целую франшизу по «Хозяйке Медной горы». Список — внушительный, масштаб — грандиозный. К этому стоит прибавить еще и фэнтези-сериалы, которые, соревнуясь друг с другом, один за другим выпускают российские стриминги. Одним из самых успешных и обсуждаемых сериалов в 2023-м (после «Слова пацана», конечно же) стал «Волшебный участок» — про обычных милиционеров, занимающихся раскрытием сказочных преступлений. На чердаке волшебного участка пылятся сказочные предметы: от скатерти-самобранки до сапог-скороходов, — а леших, русалов и прочую нечисть стражи порядка отправляют чалиться в специальный «сказочный централ», где заключенных пытает Снежная королева, раскороновавшая заправлявшего там раньше Соловья-разбойника.
Эта сказочная лавина объясняется в первую очередь новыми технологическими возможностями: уровень компьютерной графики в российской индустрии позволяет как минимум не закрывать лицо руками от стыда при появлении прирученных специалистами по CGI фантастических тварей. Но одним только техническим прогрессом, строго говоря, не объясняется ни один важный феномен: для появления чего-то нового на это новое требуется общественный запрос.
В данном случае новое — это хорошо забытое старое. Сравнивать эпохи — дело неблагодарное, и тем не менее кажется, что и в сталинское время, и сейчас государственная важность сказки объясняется необходимостью национального строительства (в первую очередь в смысле гражданской нации, а не этноса). Только если Роу за нацбилдингом шел к Васнецову и Билибину, то, например, создатели анимационной саги о «Трех богатырях» идут уже к советской, точнее к сталинской, интерпретации былинных сюжетов, стереотипизирующих национальный характер (об этом подробно можно прочесть в блестящей статье Светланы Адоньевой). А создатели новейших сказок-блокбастеров — конечно же, к Роу. Если вообразить фундамент гражданской нации РФ, то он будет составлен именно из советских стереотипов (поэтому такой успех в прокате имеют киноэкранизации классических советских мультфильмов: «Чебурашка», «Бременские музыканты», на подходе — «Летучий корабль»). Сказками сегодня заполняется лакуна, которая образовалась на месте российской идентичности.
Но это, что называется, запрос сверху. Существует и запрос снизу, куда более простой и очевидный. Если в мирные времена подъем национальной кинематографии чаще всего бывает связан с тем, что люди хотят узнавать себя и свои проблемы на экране, то в современной России зрителям от реальности по вполне понятным причинам хочется убежать. Как бежали американские зрители в кинотеатры во времена Великой депрессии. Как продолжают бежать в кино во времена смуты и катастроф зрители во всем мире — там, где, конечно, кинотеатры еще не разрушены. Поэтому такие ничтожные сборы показывает в современной России авторское кино, которое пытается говорить со зрителем об актуальном. Себя на экране российские зрители узнавать не хотят. Поэтому — сказки, желательно знакомые и проверенные и обязательно с хорошим концом, где добро торжествует.
Пока зрители в России смотрят старые сказки о главном, россияне в эмиграции тоже смотрят кино, в том числе — российское. Здесь, правда, никакой уверенной статистики нет — непонятно даже, сколько людей уехало из России после 24 февраля 2022 года. Но одним из настоящих хитов, который горячо обсуждался в среде разбросанных по миру релокантов, стал документальный проект Андрея Лошака «Пентагон». Первая серия этого четырехсерийного проекта собрала больше полумиллиона просмотров в ютьюбе. Учитывая, что фильм снят преимущественно методом наблюдения и по стилистике ближе всего к авторскому документальному кино, а не к телевизионной передаче или ютьюб-шоу, цифры эти по-настоящему впечатляют. Сколько из этого полумиллиона уехавших, а сколько оставшихся, знают только сами авторы, но, повторюсь, в эмигрантской среде сериал имел определенный резонанс.
«Пентагон» — это топоним в Новоузенске Саратовской области, так местные жители называют аварийное общежитие без горячей воды и канализации, в котором проживают (а точнее, выживают) малоимущие граждане. Серия за серией, месяц за месяцем операторы снимали жителей «Пентагона» — тех, кто согласился принять участие в съемке фильма для канала «Настоящее время», признанного в России иностранным агентом. Тех, кто не согласился, впрочем, тоже снимали, что вызывает когнитивный диссонанс у зрителя, ведь главная мысль «Пентагона» — в том, что люди здесь бесправны и власть в России пользуется их бесправием, отправляя их, в частности, на войну. Поэтому удивительно, что этим же бесправием довольно бесцеремонно пользуются и авторы фильма. Но в задачи этого текста не входит этическое измерение благих намерений создателей сериала.
«Пентагон» — тоже своего рода сказка, только документальная. Термин, безусловно, нуждается в расшифровке. Да, в том, что мы видим на экране, ничего сказочного нет. Ни в замерзших экскрементах в подвале, ни в разрушенных комнатах, ни в портретах жителей, снятых в крайней степени алкогольного опьянения, ни в бедном уюте тех немногих, кто пытается вопреки всему обустроить свой дом, ни в снятых украдкой похоронах мобилизованных, ни в сюрреалистическом концерте в местном ДК, посвященном СВО. На этом первом уровне реальности, который предъявляет фильм, зрители видят беспросветную русскую жизнь (что в старые добрые времена назвали бы классической чернухой). И то, что среди жителей «Пентагона» есть божьи люди, почти юродивые, которые продолжают вопреки всему делать добро, только усиливает интонацию беспросветности в фильме.
Снимая «Пентагон», Андрей Лошак преследовал понятную задачу — показать, что люди в России не живут, а выживают и вопрос о поддержке «специальной военной операции» для них по большому счету не стоит на повестке дня. «Пентагон» ставит вопрос о субъектности россиян и дает на него отрицательный ответ. Тема буквальной подневольности героев фильма, тотальной неспособности хоть как-то повлиять на свою собственную судьбу, а уж тем более ей распорядиться достигает апогея в эпизоде, когда съемочная группа решает нанять адвоката, с помощью которого жители могли бы отстоять свои права. Добиться того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Попытка заканчивается предсказуемым провалом: люди боятся, как бы не случилось чего похуже, и отказываются от услуг доброхотов.
В течение четырех часов нам рассказывают, что «Пентагон» — это метафора современной России. И вот на этом уровне обобщения происходящее на экране и превращается в сказку. И довольно легко представить, как эту злую сказку про немытую Россию смотрят с едва скрываемом наслаждением те, кто из России уехал: «Пентагон» подтверждает их самые сокровенные мысли о том, что им пришлось пережить и с чем они вынуждены были расстаться. И вот, поймав себя на этом стыдноватом, прямо скажем, чувстве, многие с легким сердцем перечисляют донаты жителям «Пентагона»: в телеграме даже создана специальная группа, где авторы (надо сказать, к их чести) отслеживают судьбу своих героев после онлайн-премьеры.
Безусловно, речь не обо всех уехавших, но мне признавались несколько друзей и подруг, что, читая новостную ленту, они испытывали эмоцию радости от того, как на родине плохи дела, и эта эмоция их шокировала. И «Пентагон» эксплуатирует именно это чувство.
Не знаю, стоит ли тратить место и время, чтобы объяснить, что Россия никак не сводится к «Пентагону». Что, к примеру, еженедельно Минюст РФ признает иноагентами, помимо медийных личностей, всевозможные региональные правозащитные организации. Что в России живут и работают в тяжелых условиях издательства, независимые театры, горизонтальные сообщества, благотворительные организации. Наконец, просто люди, и не обязательно хорошо образованные, которые очень тяжело переживают происходящее с их страной. Что этих людей много и что они очень разные. Что в России вообще-то осталось намного больше порядочных людей, чем из нее уехало, точно так же как это было и сто, и пятьдесят лет назад. И что свои «пентагоны» есть и в самых развитых странах, только вот почему-то там никому в голову не приходит использовать людей, живущих за чертой бедности, превращая их жизни в метафору общественного устройства.
Но, поскольку речь о сказке, доказывать ее фантастичность — затея в целом бесполезная. Не будем же мы писать опровержения: русский царь — совсем не добрый, да и корона у него, прямо скажем, не деревянная.
Так и смотрят оставшиеся и уехавшие две сказки — про добрую и богатую и бедную и злую Россию. Смотрят — и утешаются.
Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.


The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region through research and exchange. Read more