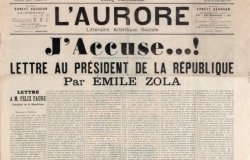A blog of the Kennan Institute
Шестьсот двадцатое февраля
Александр Уржанов — о том, как спасти свою душу во время войны
Хотя этот текст публичен, на самом деле я пишу его для себя. Я решил держать его под рукой и сверяться с ним, когда мне будет становиться слишком тяжело. Я публикую его с надеждой, что он поможет тем, чья ситуация похожа на мою. У кого-то он может вызвать злость или смех, но мне все равно.
У этого текста нет конкретного повода — и при этом есть причины, очень понятные любому человеку, жизнь которого изменила война. Война идет уже полтора года, она стала рутиной, и все больше людей вокруг меня сбрасывают ее с себя, как зимнюю одежду, в которой ходили слишком долго. Я понимаю их, но не хочу так. Для меня весна не наступила, для меня это все еще шестьсот двадцатое февраля 2022 года.
В этой памятке три неравные части. Про ментальное здоровье, про дела и про будущее.
I. Видеть
Ничто не помогло мне за эти полтора года больше, чем книга «Терапия настроения» Дэвида Бернса, — хотя до этого я много раз начинал читать ее, немного продвигался и бросал. Это классическая работа в области самопомощи, опирающаяся на подход, который называется «когнитивно-поведенческая терапия» (КПТ). В этой книге у меня лежит одна закладка — на описании когнитивных искажений, которым я оказался сильно подвержен. Почти каждый раз, когда я сталкиваюсь с войной, мое восприятие искажается, и я возвращаю его назад.
Вот несколько примеров по Бернсу.
«1. Все или ничего. Этот вид когнитивных искажений описывает склонность к оценке своих личных качеств исключительно в черно-белых тонах… Посмотрите на пол комнаты, в которой вы сидите сейчас. Он абсолютно чистый? Или он весь покрыт толстым слоем пыли и грязи? Или он отчасти чист? В этой вселенной нет ничего абсолютного. Пытаясь описывать свой опыт в абсолютных категориях, вы станете постоянно ощущать подавленность, потому что ваше восприятие не будет соответствовать действительности».
Для меня это часто относится к разговорам о конце войны; о скорой победе или поражении одной из сторон; о том, что все (или ничего) решится на поле боя (или на переговорах); о том, что в случае победы Украины Россию непременно расчленят на княжества, где наступит феодализм; о том, как в Европе провалились европейские ценности; и так далее.
«2. Сверхобобщение… Однажды депрессивный работник доставки заметил птичьи экскременты на окне своего автомобиля и подумал: «Только мне так везет. Птицы всегда гадят только на мое окно!» Это прекрасный пример сверхобобщения. Когда я спросил его об этом, он признал, что за 20 лет не смог вспомнить больше ни одного раза, когда бы обнаружил экскременты птиц на окне своего автомобиля. Боль отвержения почти всегда возникает из-за сверхобобщения. Без нее личное оскорбление может сильно расстроить, но не настолько серьезно выбьет вас из строя».
Для меня это относится к любому кэнселингу по принципу наличия российского паспорта, реальному или мнимому, удачному и неудачному, с которым сталкиваюсь я или дорогие мне люди. Людей, институций и стран, которые озабочены этим, гораздо меньше, чем тех, кто либо равнодушен к вам, либо поддерживает и сочувствует.
«3. Негативный фильтр. Находясь в определенной ситуации, вы выбираете негативную деталь и фиксируетесь исключительно на ней, таким образом негативно воспринимая всю ситуацию в целом. Например, студентка колледжа, находясь в депрессии, услышала, как другие ученики высмеивают ее лучшую подругу. Она пришла в ярость, потому что начала думать: «Таков весь человеческий род — жестокий и бесчувственный!»
Для меня это относится к любым разговорам обо всех русских, украинцах, беларусах, немцах, американцах и так далее. Я знаю, мы мыслим стереотипами, а обо всем незнакомом судим, даже не замечая этих стереотипов. Но, когда люди говорят об украинцах по-русски, иронически вплетая в речь слова «мова», «незалежность» и «перемога», или, наоборот, говорят «хороший русский — мертвый русский», я теряю к ним интерес мгновенно и навсегда.
«6. Преувеличение и преуменьшение. Другая ментальная ловушка, в которую вы можете попасть, называется «преувеличение и преуменьшение», но мне нравится называть ее «эффект бинокля», потому что вы либо раздуваете вещи до гигантских масштабов, либо делаете их микроскопически маленькими. Обычно эффект увеличения работает, когда вы смотрите на свои собственные ошибки, страхи или недостатки, преувеличивая их важность: «Боже мой, я сделал ошибку. Какой ужас! Слух об этом распространится как пожар! Моя репутация разрушена!» Вы смотрите на собственную ошибку с той стороны бинокля, которая делает ее огромной и преувеличенной. Это также называется «катастрофизация», потому что банальные негативные события превращаются в кошмарных монстров».
Я подвергаю себя этому искажению, когда думаю о том, в чем лично моя вина в этой войне и есть ли она. Что я мог сделать и не сделал. Как прошли мои восемь лет с 2014-го. Что я могу сделать прямо сейчас — и особенно чего я прямо сейчас не делаю, даже когда нет ни времени, ни сил, ни идей.
«8. Утверждения со словом «должен». Вы пытаетесь мотивировать себя, говоря: «Я должен это сделать» или «Я обязан это сделать». Эти заявления вызывают ощущение принуждения и обиды».
Для меня это относится ко всему, что и кому (в том числе мне лично) должны страны, народы, моя страна, мой народ (и я сам) прямо сейчас или на поколения вперед. На самом деле никто не будет делать ничего из этого «должен», даже если это в целом было бы справедливо. И эта разница между «должен» и реальностью будет бесконечной причиной боли и разочарования — и больше ничего.
Всего в книге Бернса таких искажений десять. Я не буду цитировать описание каждого, но есть одно, которым мне хотелось бы закончить, потому что его все время хочется пролистать — и зря.
«4. Обесценивание положительного… Всякий раз, когда вы получаете негативный опыт, вы фиксируетесь на нем и делаете вывод: «Это доказывает то, что я знал все это время». Напротив, когда вы встречаетесь с положительным опытом, вы говорите себе: «Это была случайность, это не в счет». Цена, которую вы платите за такую привычку, — это глубокое ощущение несчастья и неспособность оценить все хорошее, что с вами происходит. Хотя этот тип когнитивных искажений — обычное явление, он также может лечь в основу некоторых самых тяжелых и трудноизлечимых форм депрессии».
Для меня это касается всего, что я делаю против войны. Когда я перевожу деньги, даже значительные для меня, это слишком мало. Когда я помогаю беженцам, это капля в море, многие делают больше. Когда я оглядываюсь на эти полтора года, я вообще ничего не могу вспомнить, ведь все тонет в масштабе и ужасе самой войны. Конечно, и этот текст.
II. Делать
Правда в том, что люди все время помогают. Мне кажется, об этом всегда говорят недостаточно, да для этого и нет такого яркого и эффектного языка, как для описания трагедий. Трагедия — это история с началом, кульминацией и концом, под восприятие которого культура затачивала наш мозг тысячи лет. Помощь — это work in progress без начала и конца, без катарсиса и морали и, главное, без очевидного вознаграждающего результата.
Потому этим текстом я напоминаю себе о том, что могу и хочу помогать. Я могу и хочу это делать, потому что никогда не приму ситуацию войны как справедливую. Когда-то большой несправедливостью, которой я неизбежно пользовался, было «похорошение» Москвы при совершенном равнодушии ко всей остальной стране. Большой несправедливостью было использование копеечного труда мигрантов, чтобы богатым москвичам приносили йогурт за 15 минут, — и от этого я целенаправленно отказался. Так вот, сейчас совершенно такая же несправедливость — неравенство моих близких и дальних родственников в Москве и под Одессой, потому что на одних может прилететь ракета, а на других — нет. Я отказываюсь это принимать, я не забываю об этом каждый день, и никакая «рутинизация войны» не должна перейти этот барьер.
Я решил, что помогаю, чтобы себе об этом напоминать.
Для помощи есть три понятных способа.
Помогать делами. Волонтерство, временное и постоянное. Я восхищаюсь людьми, которые это могут, но сам не могу.
Помогать деньгами. Пожертвования, разовые и регулярные. Проблемы с заморозкой волонтерских счетов и общее закручивание гаек внутри России сбивают с толку, но на самом деле легальных способов в любой юрисдикции, валюте и размере — все еще сотни. До войны мне хотелось доверять деньги только институциональным фондам, теперь я легко доверяю деньги людям, которых знаю лично или за которых поручается кто-то, кого я знаю лично.
Помогать информационно. Иногда кажется, что это ничего не стоит и ничего не меняет, — но на самом деле если это работает как даже самое маленькое напоминание, то оно работает. Например, я каждый день смотрю фотографии с войны, которые отбирает в «Медузе» Евгений Фельдман, и я очень благодарен ему за эту работу.
Иногда есть возможности помогать всеми тремя способами. Иногда не хватает ни на один. Так вот, к помощи никогда не поздно вернуться. Необходимости помогать на наш век хватит — даже (и особенно) когда война закончится.
III. Помнить
Я стараюсь смотреть на это время и на свою жизнь в этом времени так, как на нее будут смотреть через пятьдесят или сто лет, когда все это станет историей. Я не знаю, как и кем она будет написана. Но сегодня на Первую мировую историки смотрят как на большую трагедию, которая не была запрограммирована и в которой в конечном итоге на первый план вышли жертвы — люди, которые погибли и не определили то будущее, которое могли бы. Историки не делят воевавшие тогда нации на хорошие и плохие, хотя, когда война шла, это имело для ее современников большое значение.
Я думаю, что так же будет и с этой войной: вряд ли в истории после нее будут писать, как важно было конфисковывать автомобили в пользу Латвии или, напротив, оккупировать Крым, а то без него никакой жизни в России бы не было. Мне кажется, что война станет большой трагедией на большой территории в Северном полушарии, а еще — станет частью большего контекста, чем просто отношения России и Украины.
Мне кажется, что в будущем мучения (как минимум) Украины, России и Беларуси в том историческом периоде, в котором мы живем, перемешаются, как перемешались мучения Европы тридцатых и сороковых. В этом перемешивании и упрощении исчезнет много деталей и нюансов, которые для нас принципиальны, и растворится без следа много судеб, много смертей и много героизма, но на первое место выйдет что-то более человечески важное: человек и диктатура, цена имперского и национального сознания (которому, напомню, пара сотен лет), проведенные по земле границы, за которые сотни тысяч человек платят кровью; и как мы так и не смогли решить общие проблемы, упорно перекладывая их на другого, — а переложив, стигматизировали его по признаку только что переложенного.
Мне очень жаль, что так, но эта жалость не опустошает меня, а помогает — чувствовать и сочувствовать.
Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.
Подписаться на «Иными словами»
Subscribe to "In Other Words"
About the Author


Kennan Institute
The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region though research and exchange. Read more